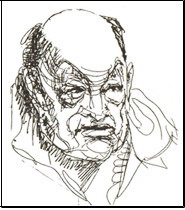
http://discut1837.narod.ru/11.htm
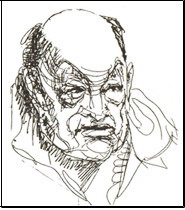
АЛЕКСАНДР ЛАЦИС
У ПОСЛЕДНЕГО ПОРОГА
Почему Пушкин плакал?
Несколько лет назад в московском музее Пушкина мне показали фотокопию. Я «сразу увидел» вполне возможное решение. Однако не поторопился, не стал кудахтать о своей «находке».
Что меня насторожило? Легкость, быстрота отгадки. Вскоре удалось выяснить, что всего лишь сработали переполненные ящики памяти – я попал в чужую колею, проложенную еще в довоенные годы.
В противоположную крайность впал серьезный, весьма уважаемый специалист Б.С.Мейлах. Предлагая очередной вариант, он так и не вспомнил, что в своих давних статьях безоговорочно присоединялся к столь очевидному прочтению.
Почему же оно не укоренилось, не стало общепризнанным? Прежде всего потому, что Пушкин набросал буковки так, что они читаются надвое.
* * *
«только Революционная голова, подобная (переделано на «подобно») МОР. и [нрзб] может любить Россию – так, как писатель только может любить ее язык .
Все должно творить в этой России и в этом русском языке.»
Для тех читателей, которые не держат в уме заковыки пушкиноведения, повторяю весь ворох догадок.
Недописанное слово одни специалисты читали «Мар». При этом разъясняли, что так Пушкиным обозначен французский революционер Марат.
Другие на том же месте читали «Мир». Предполагали, что речь идет о поручике Мировиче, казненном в 1764 году за участие в заговоре против Екатерины II.
Третьи утверждали, что Пушкин упоминает деятеля французской революции Мирабо.
Четвертые поддерживали прочтение «Мир» и догадку насчет Мирабо, но поясняли, что таково было прозвище декабриста Николая Ивановича Тургенева, который был хром, подобно Мирабо.
Пятые заявляли, что «Мирабо» – прозвище не одного, а двух братьев Тургеневых. Достаточно, мол, убедиться, что Пушкин шлет привет «обоим Мирабо» в одном из писем 1819 года...
Установилась взаимная терпимость. Кто поведет речь о французе, о графе Оноре де Мирабо, тот не преминет преподнести цитату «из Пушкина». Кто помянет братьев Тургеневых – пускает в ход все ту же цитату.
Вслед за «Мир», «Мар» или чем-то в том же роде отчетливо читается союз «и», а за ним – опять-таки нечто недописанное. Все это, вместе взятое, чаще всего принимали за «Мир. и Пет.».
В результате получили прочтение: «Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию...»
* * *
Причем здесь Мирабо? Почему самая революционная голова – именно Петр? Возможно, что лет сорок-пятьдесят назад иные рассуждали так: не декабристы, а Петр Первый – вот образец, коим сейчас, в середине двадцатого века, надлежит крепить авторитет корифея всех наук, начиная с яыкознания и кончая сельским хозяйством.
Опираясь на перепутанные пушкинские строки, возвысить императора Петра за счет декабристов – вот какие требовались «пушкинизмы».
Если отвлечься от влияния обстоятельств, возникавших не столько внутри науки, сколько над ней – вряд ли удастся понять, как сумел утвердиться во всех академических изданиях мнимопушкинский текст.
* * *
В 1979 году профессор Б.С.Мейлах попытался обосновать новый вариант: «Мирабо и Пестель».
В 1981 году Б.С.Мейлах объявил вопрос открытым для дальнейших поисков, «поскольку сам автограф не дает оснований для единственного и навсегда окончательного решения».
Прошу убедиться, что новое – это всего лишь хорошо забытое старое. Когда в 1979 году Мейлах представил в качестве новинки прочтение «Пестель», профессор упустил из виду, что именно так он приводил это место в одной из своих статей в 1937 году.
Тем самым профессор присоединялся к чтению, которое незадолго перед тем предложил Ю.Г.Оксман.
«Нами первое сокращение читается как скорописное (быть может по конспиративным соображениям) начертание имени и фамилии М.Ф.Орлова («М.Ор.»), что до конца осмысляет текст, ибо и М.Ф.Орлов и П.И.Пестель, оба были в 1822 году и «революционными головами» и пламенными пропагандистами чистоты русского языка.»
Строки поэта на протяжении десятков лет преподносились в несообразной, несвязной форме. Тот, кто поддерживал, кто продлевал принудительную неизменность неверно прочтенных текстов, умалял весомость пушкинской мысли, связывал французскую бузину с дядькой в Киеве.
Впрочем, многие ошибались непреднамеренно. Им казалось, что Михаил Орлов – не та фигура, не заслужил столь высокой оценки. Как сейчас принято выражаться, не «смотрится».
Инерцию пренебрежения попытался преодолеть один из наиболее проницательных пушкинистов, М.О.Гершензон. И что же? Ему создали репутацию великого путаника, пленника своего воображения, начисто выпадавшего из реальной жизни.
Тогдашние руководители Госиздата перепугались и предварили книгу живого автора уморительным безымянным предисловием.
«Мы не можем рекомендовать эту книгу без оговорок. Еще менее приемлемы для нас рассуждения... Этими перлами идеалистической мысли местами пересыпана... книга, предлагаемая вниманию читателей.»
* * *
Не будем спорить. Приведем ряд высказываний М.Орлова, разысканных и сообщенных Гершензоном в 1923 году.
Сюжет первый – борьба М.Орлова с царившим в армии рукоприкладством. Передаю слово М.Гершензону.
«Первой заботой по принятии начальства над 16-ой дивизией было категорически запретить употребление на учениях палок, шомполов и тесаков.С той поры прошло 80 лет, но и теперь военные нравы еще далеко не достигли того уровня человечности, какой ставил себе целью Орлов.»
Далее Гершензон цитирует приказы Орлова по 16-ой дивизии:
«Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат.
Строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г. офицеры могут быть уверены, что тот из их, который отличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей.
Предписываю в заключение прочитать приказ сей войскам и каждой роте самому ротному командиру.»
«По сих пор многие из них, несмотря ни на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают...
Открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я военному суду. Да испыт(вы)ают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.
Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ, и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки.»
* * *
Сюжет второй – о кавказской войне. Орлов пишет Бутурлину:
«Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем, которого и у нас не избыточно. При падении листов сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся восвояси, чтобы опять ждать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких... Обстоятельства и прежние меры начальников и предместников его сделали... так сказать, политическую фистулу. Через оную Россия потеряла много крови и соков... Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну?»
* * *
Сюжет третий. О «патриотизме» на словах, о ширме, прикрывающей стремление к тиранству. Комментирует Гершензон:
«В августе 1819 года он произнес обширную, тщательно составленную речь, которая по содержанию сделала бы честь и любому общественному деятелю нашего времени.
Орлов мастерски изобразил нравственный облик обскуранта. Эти люди, говорил он, «везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, они – настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие и противятся введению представительного строя; в Германии они защищают остатки феодальных прав, в Испании они раздувают костры инквизиции, в Италии восстают против распространения св. писания; наконец, наша история полна их усилий против возрождения России. Они были личными врагами нашего великого преобразователя... И еще теперь, когда лучи просвещения начинают озарять наше отечество, они употребляют все старания, чтобы вернуть его к прежнему невежеству и оградить от вторжения наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они – избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самим Промыслом, и в этой уверенности они присвоили себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности льстящих им и друзей невежества.»
Снова передаю слово Гершензону:
«Для того времени речь Орлова была незаурядным явлением, и она имела большой успех. Якушкин и И.И.Дмитриев рассказывают, что она распространилась во множестве списков. Вяземский был в восторге...»
Второе письмо Орлова Бутурлину:
«Россия подобна исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжкой внутренней болезни.»
«Датчане... вольным переходом передались из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении.
Я остался непоколебимым в моем мнении... Россиянин должен проклинать тот несчастный закон, который осудил на рабство большую часть наших сограждан.»
* * *
В чем длинной речи смысл краткий?
Разговоры о том, что революционные высказывания поэта – кратковременный этап, навеяны пагубным влиянием кишиневской и одесской мо,лодежи – беспочвенны, опровергаются простейшим ударом по датам. М.Орлов на одиннадцать лет старше нашего юбиляра. Ближайшие сподвижники Орлова – И.Липранди, К.Охотников, В.Раевский – все они, а также Пестель, кто на пять, кто на шесть лет старше Пушкина.
Нас могут спросить: при чем здесь Пушкин?
По всей вероятности именно эти взгляды поддержаны вовсе незагадочной записью Пушкина «Только революционная голова...»
* * *
Привлекаю весьма надежного свидетеля. Кроме приказа по 16-ой дивизии и двух писем М.Ф.Орлова к Д.П.Бутурлину сохранилась запись, сделанная поэтом по-французски. Привожу ее в уточненном переводе:
«О/рлов/ говорил в 1820: «Переворот в Испании, переворот в Италии, переворот в Португалии, конституция тут, конституция там... Господа властители, вы совершили глупость, согнав Наполеона с трона.»»
Сравните запись в дневнике П.И.Долгорукова (27 мая 1822):
«За столом у наместника Пушкин... вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский – тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх.» Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут.»
Вскоре, в 1823 году, Пушкин примерно это перечисление повторил в неоконченном стихотворении:
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?
Впоследствии, в 10 главе «Евгения Онегина», Пушкин вновь вернулся к этой теме:
Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал...
Полагаю, что смысловое единство более нежели достоверно. Оно окончательно подтверждает истинное прочтение спорного текста.
Все три сюжета остаются злободневны. Почему они столь живучи? Отчасти по вине властей. Но в большей степени унаследованы, порождены многовековой привычкой грызть друг друга и, в конечном счете, самих себя, самих себя...
* * *
Всякой сколько-нибудь серьезной находке положено пройти путь, состоящий из трех отрезков.
Первый: интуиция, зарождение догадки, подбор косвенных доводов, построение логической цепочки.
Заметим: все доводы непременно косвенные. Если есть прямые, то исчезает потребность в догадке, ее заменяет простая фактическая справка. Поэтому часто слышимый упрек – «Жаль, что не нашлось прямых доводов, пусть поищет, до того отложим обсуждение.» – такое «возражение» всего лишь отговорка. За ней нередко кроется умственная лень или боязнь ошибиться, подпортить свою репутацию.
Второй отрезок. Сомнения, самоопровержения, готовность отказаться от первоначального решения.
Третий отрезок. Снятие сомнений, обратное истолкование «опровержений», обогащение цепочки доводов, возрастание важности находки.
Вернемся к нашему случаю. Предварительно – лучше поздно, чем никогда – условимся о границах поиска. Обе фамилии – современников Пушкина, оба живы-здоровы, проживают в России, всем известны своей приверженностью к свободному развитию страны. И – еще одно обязательное условие – оба имени равновелики, сопоставимы, воспринимаются как некая постоянная пара.
Однако не одна единственная, а несколько фамилий умещаются в очерченной выше рамке.
Почему мы обязаны, вслед за Ю.Оксманом, прибавлять воображаемую точку? А если ничего не вставлять? Если полностью последовать за пушкинской записью? Что им написано? «Мор».
Чуть продолжим – и что получится? Мордвинов. Сразу набегает цитата из письма Вяземскому: Мордвинов «в себе одном заключает всю русскую оппозицию.» К сему отзыву нетрудно подверстать немалое количество подкреплений. Знатокам пушкинианы весь набор известен. Не знатокам советую обратиться к трудам И.Фейнберга, Н.Эйдельмана, Г.Невелева и др.
Не привнося ничего нового, назову равновеликую фигуру: М.М.Сперанский. Итак, Мордвинов и Сперанский?
Однако это весьма возможное сочетание тут же разваливается. Набросанная Пушкиным запись не допускает такое прочтение. Виднеется нечто неразборчивое, все, что угодно, но не Сперанский. И все же не будем отбрасывать листок с записью. Здесь запрятан ряд подсказок, дополнительных следов. Чтоб их отыскать и оценить, надо, хоть приблизительно, определить датировку записи.
Пересмотр доселе принятой датировки – вот поворотный пункт, главное условие верного решения. Известно, что запись внесена (яснее говоря – вписана) на свободное место, на самый верх страницы во второй кишиневской тетради. По сей причине предполагали датировку начиная с 1822 по 1824 год.
Мы предлагаем отнести ее к 1836 году.
В сем случае дата определяет смысл, смысл определяет дату. Это необходимое взаимодействие позволяет назвать обе искомые фамилии.
* * *
Не скрою: я отыскал решение другим, менее сложным способом. Просто-напросто повернул вбок листок с фотокопией. Если читать под углом, то при сильном боковом наклоне становится видно то, что долгое время оставалось незамеченным.
Во второй фамилии первая наклонная буква – отчетливое, несомненное «Ч»! За ней следует «е». Надо пояснить, что в те времена знакомая нам фамилия «Чаадаев» писалась короче: «Чедаев». При этом не надо отбрасывать не наклонное, прямое первоначальное чтение «П». Попробуем совместить – что получится? «П.Чедаеву». Совпадение забавное... Все-таки «Петру», но не к тому, не к императору.
Поскольку «Мордвинов и Чедаев» не равновелики, несочетаемы, остается вернуться к первоначальной догадке. Она окончательно подкрепляется новонайденным соседством – «М.Орлову и П.Чедаеву».
Немало общего меж этими именами. Оба живут в Москве, оба – на опальном положении, под постоянным надзором. С каждым из них Пушкин поддерживает давние дружеские отношения. Оба они время от времени пробуют пробить окружающую их ограду, ступить на стезю публицистики.
Заметки о книге Орлова «О государственном кредите» Пушкин уже набросал. На очереди статья в «Современнике» по поводу «Философических писем» Чаадаева. От этого замысла тут же приходится отказаться: разразился слишком яростный запретительский гнев. Редактор, Надеждин, – в ссылке, автор, Чаадаев, официально объявлен сумасшедшим.
Вот почему первоначальный набросок оставшейся ненаписанной статьи, ее главную мысль, вписал Пушкин в укромное место, на свободный от текста лист второй кишиневской тетради. Любопытно, что сей свободный лист – один из трех свободных, средний меж ними.
Вместо выступления в печати, Пушкин решил ограничиться личным письмом. Весьма содержательное послание было написано и осталось неотосланным. Думаю, что не преследований убоялся Пушкин. Его критические замечания могли прозвучать, как соучастие в топтании поверженного...
* * *
Кроме постижения смысла новую датировку можно подкрепить анализом почерка. Текст написан не в один присест. Он начинался со слов: «Революционная голова.» Затем вставлено первое слово «Только». Оно повторено и во второй части фразы. Обе вставки заметно мельче основного текста. И вторая – мельче первой.
В ходе писания буквы становятся все меньше и меньше. Такая примета присуща лишь поздним рукописям поэта. Это явление имеет особое медицинское название – «микрография». Сей постоянный симптом сопутствует многим тягостным болезням, но не является «патогномичным», то есть он не может в одиночку послужить достаточным основанием для постановки определенного диагноза.
В другой рукописи – черновик стихотворения «Пора, мой друг, пора», его мы тоже относим к 1836-1837 годам – буквы мельчают не вдвое-втрое, а в пять или в десять раз.
Здесь не место перечислять поочередно все грозные проявления болезни, нахлынувшие после примерно двадцатилетнего относительного благополучия. Эта болезнь была и до сих пор остается мучительной, губительной, неизлечимой. Временной защитой служит энергичное соблюдение лечебного режима. И, это может показаться невероятным, Пушкин строго ему подчинялся.
Откуда он мог заранее знать всю картину дальнейшего развития и неизбежный исход своей роковой болезни?
Ее подробное описание было опубликовано в Англии, в 1817 году. Пока что мы не располагаем сведениями о переводе реферата на французский или русский язык. Даже если окажется, что какие-то изложения, прибавления появлялись в печати, – останется недоказанным, что Пушкин на них наткнулся, ознакомился и тщательно изучил. Но вспомним, что в Одессе у графа Воронцова служил домашний доктор Вильям Хатчинсон. Известно, что этот английский врач подружился с Александром Раевским. Раевский у него лечился, следовал его советам. Хатчинсон дружил и с Пушкиным, вел с ним доверительные беседы. Об этом мы знаем также и из воспоминаний сослуживцев, в частности А.И.Левшина.
* * *
В одном из стихотворений (его датируют 1816 годом) подробно описан ранний симптом. Возможно, именно об этом поэт и рассказал Хатчинсону.
У юного поэта – ему всего лишь семнадцать лет – вдруг, без предвестья, темнеет в глазах. Книга, которую он читал, падает на колени. Рука валится на стол... А голова падает на грудь. Одолевает дремота, за ней следует нежданный сон...
В западной медицине не принято обманывать пациента, скрывать от него неутешительный диагноз. После того, как было написано стихотворение «Сон», более или менее благополучно протекло два подготовительных десятилетия. Вслед за микрографией пришли внезапные неудержимые судороги. Не потому ли в 1835 году написаны трагические глубоко выстраданные стихотворения «Родрик» и особенно откровенное «Странник»?
СТРАННИК
I
Однажды, странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен.
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь, как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
II
И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце, наконец, раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты жена! -
Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! Уж близко, близко время...»
.............................................................................
IV
«Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный -
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
Эти строки – исповедь и поэтическая, и медицинская, и прежде всего – человеческий документ. Сколько, однако, бумаги потрачено литературоведами в попытках утопить или замуровать прямой смысл.
Ни один из лучших пушкинистов не взялся объяснить, почему Пушкин плакал навзрыд на праздновании лицейской годовщины 19 октября 1836 года. Почему так и не смог дочитать приготовленные стихотворные листы? Вероятно, эти вопросы задавали себе многие, находили ответ некоторые, но вслух не проговорился никто... Ужели непонятно? Поэт ясно представлял: этот праздник – для него последний, на следующем его не будет, его не будет нигде. И эти мысли – не блажь, не дань тоске, не очередной приступ мрачного душевного настроения... Стало быть, им было принято твердое решение – опередить конечную стадию той болезни, от которой, во избежание предстоящих унизительных страданий, существует лишь одно единственное лекарство – смерть.
* * *
Еще не развернулась травля. Еще не было анонимных писем. Но уже было ведомо: настали последние дни. Пришла пора исчезнуть. Надлежало тщательно замаскировать предстоящее самоубийство. На лексиконе нашего времени можно сказать, что в исполнители напросился Дантес. А заказчиком был сам поэт.
Заглянем в наброски неоконченных повестей. Если их прочесть автобиографически, возникает вот какая житейская новелла, она же – ложный след. Мол, одна из дам уступила себя на известном условии, заимствованном у древней египетской царицы. В уплату за «ночь Клеопатры» поэт обещал отдать жизнь.
Не суть важно, которая из дам попросила застегнуть лифчик сбоку или на спине. Сонная дура, в ответ на вопрос – «Какой способ казни, сударыня, вы мне назначаете?» – не сказала: «Никакой, вы милый собеседник, и еще будете нам нужны.»
Вместо того она наморщила лоб и произнесла: «А... вот... пусть будет так, как у вас в «Онегине» написано. Вы погибнете на дуэли, как ваш поэт, как его... Бренский. Нет, Ленский.»
* * *
Прошло много лет, и мало что изменилось. Вряд ли будет дозволено досказать все то, о чем лишь мельком упоминали современники поэта. На вратах запретной зоны по-прежнему красуется грозная надпись «Недопустимая откровенность». Каждого, кто переступит через порог, подстерегает симуляция общего негодования. В 1855 году письмо о вынужденном замалчивании, об «умышленных непрочтениях» – не только текстов поэта, но и страниц его биографии – это пророческое письмо отправил в будущее один из ближайших друзей поэта, С.А.Соболевский.
«Публика, как всякое большинство, глупа и не помнит, что и в солнце есть пятна; поэтому не напишет об покойном никто из друзей его, зная, что если выскажет правду, то будут его укорять в недружелюбии из всякого верного и совестливого словечка... Итак, чтобы не пересказать лишнего или не недосказать нужного – каждый друг Пушкина должен молчать. По этой-то причине пусть пишут об нем не знавшие его... то есть мало касаясь его личности и говоря об ней только то, что поясняет его литературную деятельность.»
Обывательское ханжество и конъюнктурная услужливость поддерживают царей, властей, толпу, народ в их общем стремлении как можно дальше отойти в сторону от непокорного поэта. В упор не видят оставленный им ключ. Его поединок с судьбой – вот о чем гласят исчерпывающие все «тайны» строки:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров -
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
* * *
Не в отмену, не взамен перечня неблагоприятных обстоятельств приводим роковые строки. От них отмахивались. Комментаторы выдавали стихотворение за своего рода репортаж по случаю посещения душевно-больного поэта Константина Батюшкова. Однако после даты посещения – 3 апреля 1830 года – прошло несколько лет. Да и вся обстановка ни в чем не совпадает.
Для того и «вычислен» пушкинистами Батюшков, чтобы было к чему приурочить и тем умалить, приглушить трагическое стихотворение. Стало быть не о Батюшкове речь – о себе, о Пушкине.
* * *
Сто лет назад, в 1900 году, было опубликовано письмо А.С.Хомякова к Н.М.Языкову от 1 февраля 1837 года. Его цитируют нечасто, да и неодобрительно. Оно не вписывается в картину приторного умиления.
«Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему очень хотелось рискнуть жизнию, чтоб разом от нее отделаться... Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться.»
Сказанное Хомяковым – все правда. Но не вся правда. К скоплению вероятных причин приходится добавить еще одну: резкое ухудшение самочувствия. На наш взгляд, эта причина – главная.
Так или иначе, в конечном счете сбылось то, о чем Пушкин предупреждал будущую тещу, Наталию Ивановну Гончарову, 5 апреля 1830 года. Приводим текст в нашем переводе с французского. «Видит Бог, что я готов умереть за нее, но помереть лишь ради того, чтоб вдове блистательной и свободной дозволить на другой же день избрать некоего нового супруга – подобная мысль влечет в сущий ад.»
Как понимать это письмо? Что в нем преобладает: предвидение или знание? Или стремление сбежать, отпугнуть, уклониться от брачного договора? Мнения возможны различные, и мы не вправе запрещать разноречивые суждения.
* * *
Современники поэта приметили и запомнили, что при одном упоминании имени Дантеса сильные судороги искажали лицо поэта.
Неудивительно, что очевидцы принимали повод за причину. В те времена курс нервных болезней не входил в набор общедоступных знаний... Но, скажут нам, В.Вересаев, М.Булгаков – профессиональные врачи. Оно все так, да только тут нужны не терапевты, а практикующие невропатологи...
* * *
Вот как описывается симптом, именуемый микрография: «Первые буквы могут быть обычной величины, но в дальнейшем они становятся все меньше и меньше.»
Там же говорится о тиках, подергиваниях, судорогах. «В качестве провоцирующего фактора отмечаются сильные эмоциональные возбуждения.»
Четкое представление о том, что такое микрография, может оказаться полезным, даже необходимым подспорьем в ходе текстологического разбора рукописей Пушкина. Кроме уточнения спорных датировок, наличие микрографии дает возможность «расслоить» текст, то есть определить последовательность записи, очередность появления вариантов, вставок и поправок.
В нашем случае подтверждается правило, установленное С.М.Бонди и сообщенное им в одной из наших бесед. Бонди никогда не начинал чтение с самого верха. Пушкин оставлял «чердак» свободным и добирался до него позже, когда не оставалось пространства в средней части листа.
Рассматриваемый нами текст, как обычно, начинался с крупных букв, с нынешней второй строки. После окончания всего фрагмента на «чердак» было вписано начало. Еще позже, то есть еще мельче, дважды прибавлено «только».
«Только революционная голова, подобно М.Ор/лову/ и П.Че/дае/ву» – позднейшая приписка. С чем связано ее появление? Пушкин не первый поставил рядом эти имена. Как раз в конце 1835 и в начале 1836 года московский литератор М.Загоскин выпустил в свет комедию «Недовольные». Вот комментарий из вышедшего недавно сборника «Пушкин и искусство», со стр. 607. «Суровый отзыв Пушкина напечатан не был. Он относится ко времени, когда Белинский... и другие критики резко осудили ретроградную драматургию Загоскина. Его комедия осмеивала Чаадаева и М.Орлова.»
* * *
Доселе принятая датировка (например в «Летописи жизни и творчества», т.1) «июль – декабрь 1823 года» не просто произвольна – она невозможна.
Во время так называемого «духовного кризиса», то есть во время провозглашения в письмах и стихах отказа, отречения от вольнодумных увлечений, от заблуждений молодости, от пагубного влияния легкомысленных друзей Пушкин не мог утратить необходимую осторожность.
Сложите вместе: арест В.Раевского, отставка и опала М.Орлова, высылка из России графа Каподистриа, наконец, внезапное увольнение А.И.Тургенева (ему, кроме прочего, поставили в вину близкое знакомство с Пушкиным!). Вот когда поэту пришлось спешно вырывать страницы из рабочих тетрадей и заготовлять на случай обыска «благонадежные» стихи. Поэт не собирался отдавать в печать набросанные на скорую руку защитные ухищрения.
Не знаю, докопались ли до них полицейские чины. А поколения позднейших исследователей приняли вынужденные мнимые покаяния всерьез, усмотрели и провозгласили пресловутый «духовный кризис».
Непонимание замыслов поэта не могло не привести к множеству текстологических ошибок. Так, в незавершенном послании «Ты прав, мой друг...» читают и печатают
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы...
Однако, Пушкин выражался куда осмотрительней. Вместо «верил» следует читать «И вторил ей...»
Не пора ли дозволить Пушкину поступать по своим правилам, по своим разумениям?
Что, например, приключилось после ноября 1836 года в январе 1837? Специалисты нагромоздили ворох версий – и ни одной убедительной.
Современники – В.Вяземская, Н.Смирнов, А.Россет – рассказывали, что поэт имел страшный вид, выглядел ужасно. На вечере в доме Мещерских-Карамзиных 24 января 1937 года поэт, по словам Софьи Карамзиной, скрежетал зубами. Хозяйка дома вспоминала:
«...Я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судуорожными движениями, которые начинались на его лице при появлении будущего его убийцы.»
Из письма Вревского Ольге Сергеевне Пушкиной:
«Евпраксия... находит, что он счастлив, что избавлен тех душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования.»
Переверните: не потому так выглядел, что стремился к дуэли, а потому стремился к дуэли – с кем угодно, – что состояние здоровья непоправимо ухудшилось... Вот почему условия дуэли, по настоянию Пушкина, были смертельные. Иного выхода не оставалось.
Не дай мне бог сойти с ума...
* * *
Передавая двадцать первому веку все заботы о жизни поэта и о его творчестве, пожелаем нашим преемникам освободить себя – и Пушкина – от навязчивых идей.
Не надо преувеличивать роль Дантеса и его подстрекателей, салонных болтунов любого возраста и пола.
Не надо оскорблять поэта, приписывать ему отсутствие выдержки, проницательности, элементарного здравого смысла. Он не был заводной игрушкой, не был рабом общего мнения. В своем последнем цикле снова – и весьма внятно – сказал:
...никому
Отчета не давать,
Себе лишь самому
Служить и угождать.
Тогда же, в конце 1836 года свои взгляды, свои правила поведения изложил в прозе. В «Современнике» напечатал пастишь, то есть пародию, памфлет. Читая «Вольтер», надо разуметь «Пушкин», а вместо «Дюлис» – «Дантес».
Соль шутки в том, что Вольтер счел невозможным связываться с мелюзгой, был прав, отказавшись от дуэли с Дюлисом. Лет пятнадцать назад я подробно обрисовал эту параллель. Надо было, пожалуй, не полениться указать, что упоминавший о сем сюжете Д.Благой лишь дословно пересказывал мое устное сообщение.
Считать поведение поэта вынужденным, нерасчетливым, машинально зависимым от любой клеветы, – разве это не идея фикс? Давно пора прочесть, услышать и понять буквальное сиюминутное значение стихотворной подписи «К моему портрету»
Напомним и другое заглавие: «Памятник». Это заглавие – позднейший вымысел издателей. Оно более гибкое, удобное для тех, кто приучен рассуждать обо всем и ни о чем. Между тем, в тогдашней обстановке последние строки оказывались точным выпадом, фехтовальной репризой:
Хвалы и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Не в том суть, какая именно болезнь была у Пушкина, а в том – какая болезнь у пушкинизма.
Она сильно запущена. Вряд ли излечима. Прогнозис пессима. Но лечиться – надо.
6 октября 1999
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
МЕЛКИЕ БЕСЫ РУССКОЙ ПУШКИНИСТИКИ
АНОНИМНЫЙ ПАСКВИЛЬ И ВРАГИ ПУШКИНА